Габриэль Витткоп и разрыв литературного полотна ХХ века
Обзор литературного наследия французской писательницы Габриэль Витткоп (1920-2002 гг.) и попытка понять, как Витткоп удалось возродить идеи барокко, объединив их с философией ХХ века о жизни и смерти.
Время чтения: 10-15 минут
Время чтения: 10-15 минут
В 2001 году швейцарская газета «Le temp» озаглавила интервью с французской писательницей Габриэль Витткоп (1920-2002 гг.) её именем и поясняющей конструкцией — «исчадие ада». В сопроводительных статьях и аннотациях изданий сочинений Витткоп чаще всего можно встретить определения «нонконформисткая литература», «маргинальная писательница» и типизацию героев-извращенцев. Работая во второй половине ХХ века, сама Витткоп не причисляла себя ни к какому литературному направлению. В интервью Фелиси Дюбуа (2001 г.) писательница говорила, что её цель — создать что-то новое, а не эпатажное. Провокационные темы вне морали и нравственности: некрофилия, каннибализм, педофилия, насилие, убийства, карлики, оргии, безумие и прочее — для Габриэль Витткоп лишь форма изображения любви и страдания человека, движения по вертикали жизни и смерти. Писательница стремилась не к модерновому и постмодерновому слому литературы, а к синтезу реального и барочного, вывернутого идеями Просвещения и свободы, не похожего ни на что мира. В своем творчестве Витткоп не изображает привычные реалии «дегуманизированной эпохи» ХХ века, не пытается сквозь транссубъективность раскрыть духовное в человеке. Более того, Витткоп отрицает любые трансцендентальные формулы. В романах и рассказах герои уже знают, кто они и что за мир вокруг них.
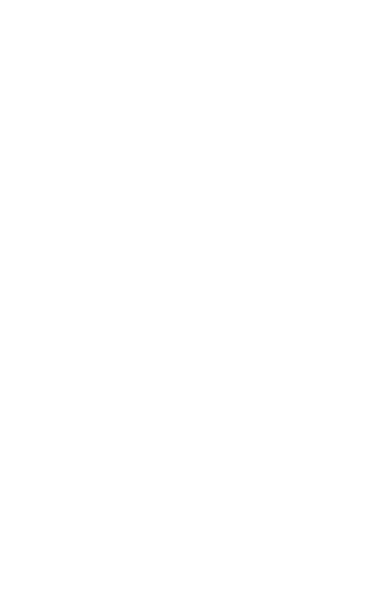
Центральной темой творчества Витткоп становится экзистенциальный поиск удовольствия, опережающего смерть. Поэтому художественная задача писательницы — показать трагедию человека в движениях от Эроса к Танатосу и наоборот.
Витткоп и философия ХХ века
Постоянное переплетение любви и смерти в разрыве с реальным миром в сюжетах Витткоп определенно несет влияние фрейдистских теорий. Сама писательница признавала величие открытий Фрейда, но указывала, что сам психоаналитик часто ошибался. Тем не менее, писательница считала, что «нельзя понять человека, если не считаться с психоанализом». Чаще всего эпизоды, связанные в восприятии читателя именно с событиями «по Фрейду», изображаются с героями вне социальной нормы. Некрофил Жюльен («Некрофил») вспоминает первое сексуальное возбуждение, которое по воле случая соприкоснулось с телом мертвой матери. Владелица борделя с детьми («Торговка детьми») описывает, как в детстве видела насилие отца над дочкой. И если люди это делают, то почему она не может превратить это в бизнес?
В более поздних рассказах сборника «Образцовая смерть» описывается влияние материнского начала на взрослого мужчину («Падение») и детские представления о любви и смерти («Клод и Ипполит»). Но это лишь мгновения жизни, значение которых не поддается причинно-следственному анализу в картине мире Витткоп.
В более поздних рассказах сборника «Образцовая смерть» описывается влияние материнского начала на взрослого мужчину («Падение») и детские представления о любви и смерти («Клод и Ипполит»). Но это лишь мгновения жизни, значение которых не поддается причинно-следственному анализу в картине мире Витткоп.
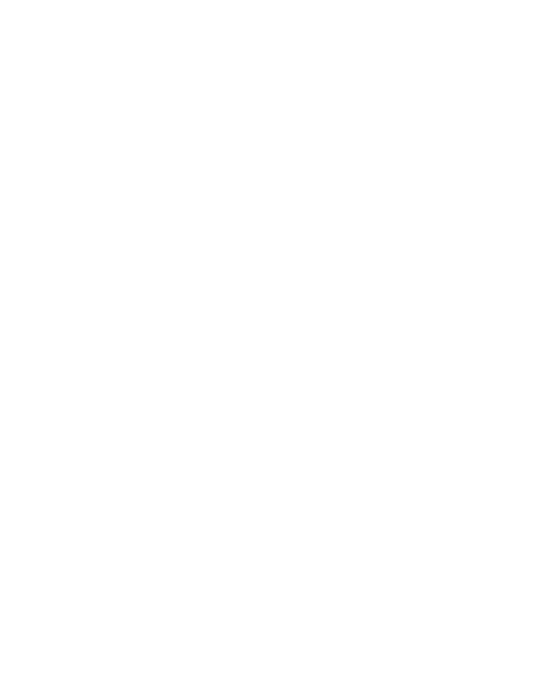
Зарубежные психологи часто берут тексты Витткоп для исследования психологии детства и травмы. Но в поэтике писательницы герои глубоко несчастны не из-за ошибок родителей или потрясений несознательного возраста, а потому что их ценности и искренние желания сводят с ума. Так или иначе, субъекты не бунтуют, не вступают в прямой конфликт с миром. Герои Витткоп делают выбор в сторону полного познания эротизма как основополагающего стремления жизни.
Поэтому гораздо важнее для общей характеристики творчества Витткоп идеи либертинажа XVIII века и философия эротизма XX века. Габриэль Витткоп, получившая домашнее образование, считала XVIII век лучшим в истории человечества за стремление к свободе. Главным идейным представителем философии освобождения от условностей жизни писательница почитала Маркиза де Сада. Изображение свободы через материальное тело, наполненное переживаниями, ненастное в любви и ненависти, позволяет, по де Саду, вытеснить деструктивный страх и доказать свою обособленность от других тел. Запутанность жизни — лабиринт еще барочной мысли — можно преодолеть ненавистью тела и сексуальной энергией.
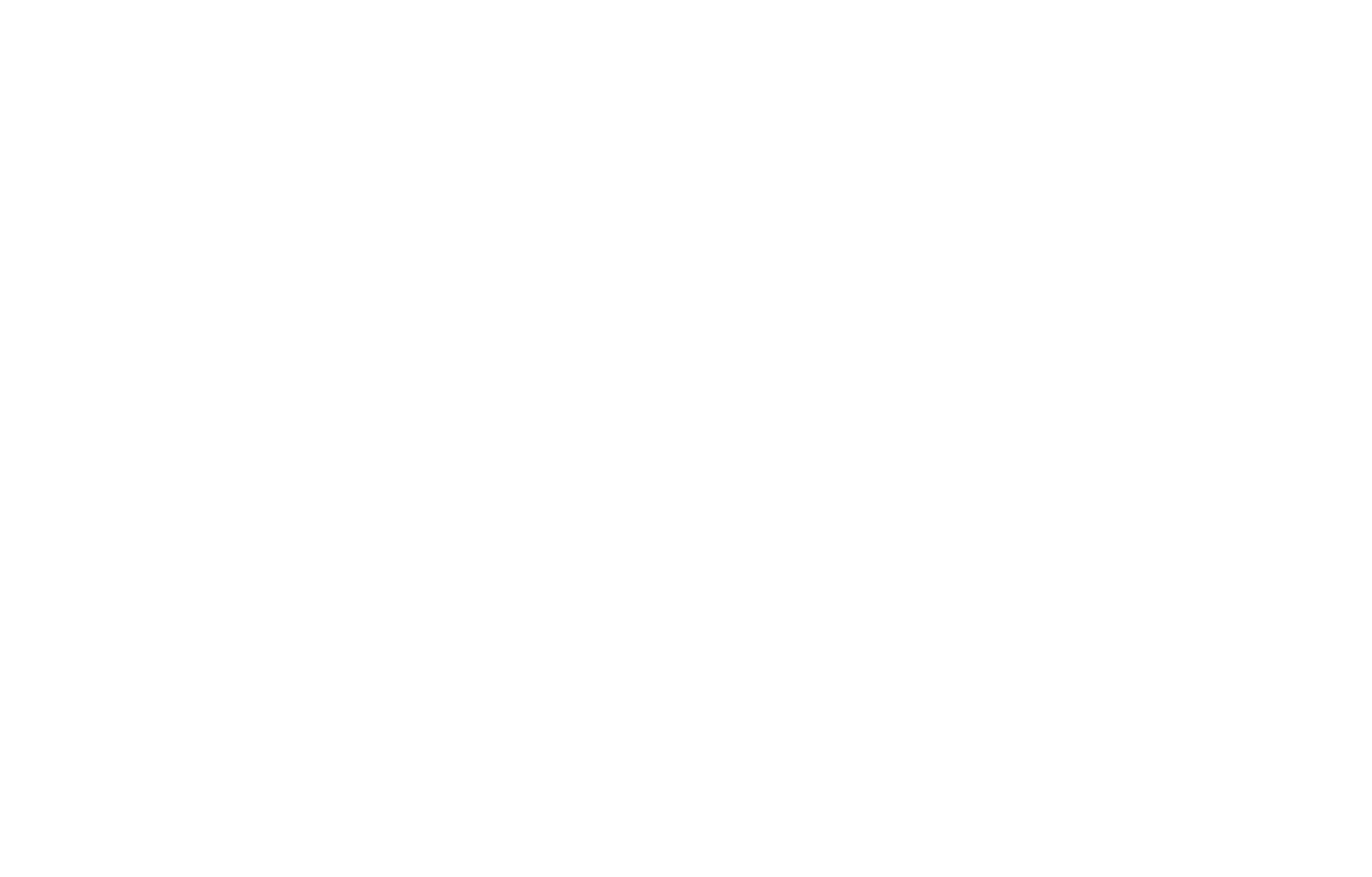
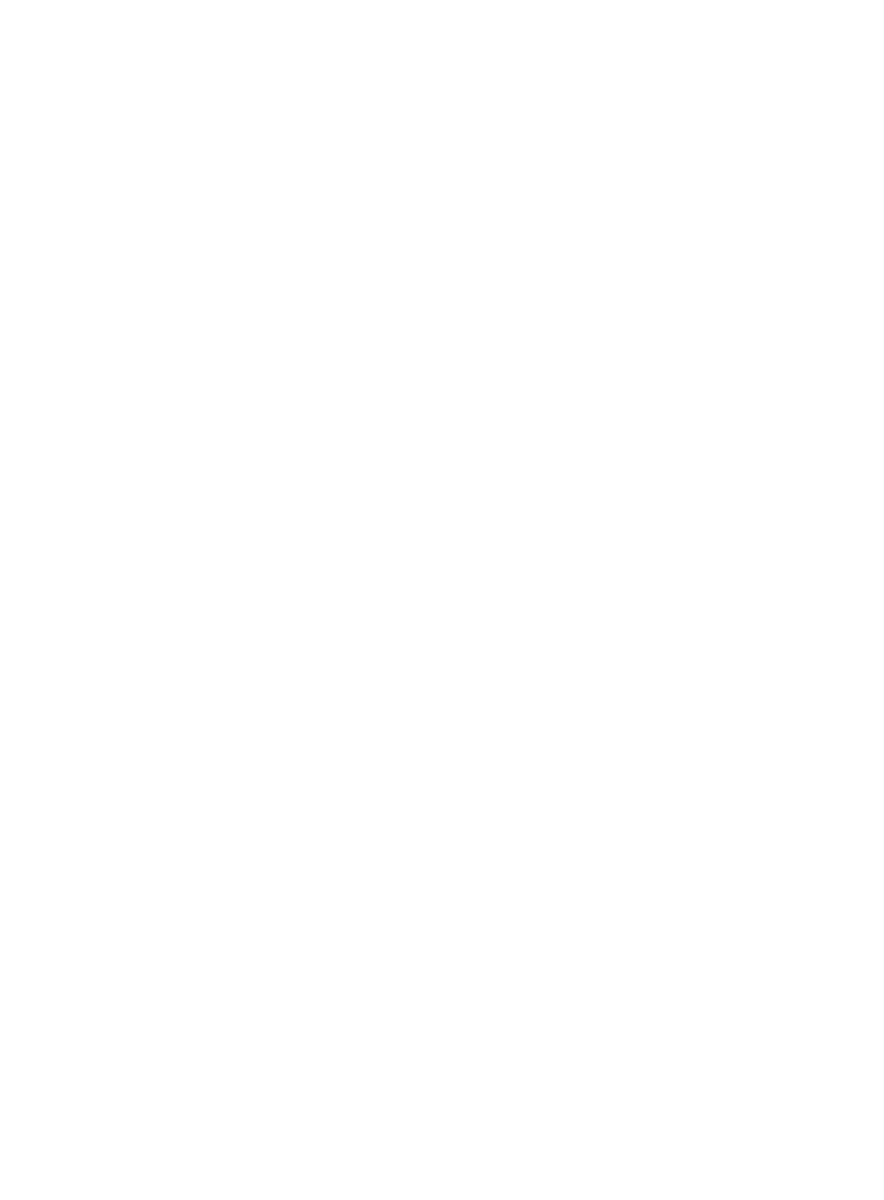
Среди близких Витткоп философов ХХ века, можно рассмотреть Жоржа Батая и Поля Рикера. У Батая эротизм тесно связан с идеей трансгрессии — нарушением социальных и моральных норм. Он утверждает, что именно в момент нарушения этих границ человек может испытать истинную свободу и полноту жизни. Внутренняя сила человека и его желания позволяют обрести настоящего себя.
Так, герои Витткоп не стремятся запечатлеть в мире ни духовное, ни материальное присутствие. Если они любят мертвые тела, животные тела, тела детей — они делают это тайно и чаще всего на грани ненависти и жестокости, в полной мере своего переживания жизни. И только только в эти мгновения могут быть счастливыми.
Также Батай подчеркивает связь между эротизмом и смертью. Он рассматривает эротические переживания как способ противостоять смерти, а также как способ осознания своей смертности. Женщины-отравительницы из «Ядов» Витткоп действуют, повинуясь эротизму: любят, убивают и мстят в одинаковых пропорциях. При этом чаще всего герои текстов писательницы показаны узниками пространств — метафорических тюрем и заключений свободы тела и желаний. Но только в таких ограничениях проявляется их эротизм — стремление к жизни. Как и писал Батай:
Так, герои Витткоп не стремятся запечатлеть в мире ни духовное, ни материальное присутствие. Если они любят мертвые тела, животные тела, тела детей — они делают это тайно и чаще всего на грани ненависти и жестокости, в полной мере своего переживания жизни. И только только в эти мгновения могут быть счастливыми.
Также Батай подчеркивает связь между эротизмом и смертью. Он рассматривает эротические переживания как способ противостоять смерти, а также как способ осознания своей смертности. Женщины-отравительницы из «Ядов» Витткоп действуют, повинуясь эротизму: любят, убивают и мстят в одинаковых пропорциях. При этом чаще всего герои текстов писательницы показаны узниками пространств — метафорических тюрем и заключений свободы тела и желаний. Но только в таких ограничениях проявляется их эротизм — стремление к жизни. Как и писал Батай:
“
...из-за того, что мы живем в тревожном ожидании смерти, мы и знаем ожесточенное, отчаянное, буйное насилие эротизма.
Творчество Витткоп поэтому и пугает многих своей необузданной моралью силой, «маргинальностью», разрывом устоявшихся и в очередной раз закостневших норм.
В своих мыслях Витткоп схожа и с Полем Рикером. Французский философ также анализирует эротизм как способ самовыражения и поиска смысла, подчеркивая его связь с концепциями свободы, желания и идентичности. По Рикеру,
эротизм может быть источником как радости, так и страдания и играет важную роль в формировании человеческих отношений и взаимодействий. В работе «Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка» Рикер описывает разрыв между людьми и связь эротизма с одиночеством:
В своих мыслях Витткоп схожа и с Полем Рикером. Французский философ также анализирует эротизм как способ самовыражения и поиска смысла, подчеркивая его связь с концепциями свободы, желания и идентичности. По Рикеру,
эротизм может быть источником как радости, так и страдания и играет важную роль в формировании человеческих отношений и взаимодействий. В работе «Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка» Рикер описывает разрыв между людьми и связь эротизма с одиночеством:
“
...шаг за шагом совершается переход от тесных отношений к безутешному одиночеству. Глубокое отчаяние, связанное с эротикой — оно напоминает знаменитую дырявую бочку из греческой легенды, — заключается в том, что мы оказываемся не в состоянии компенсировать утрату ценности и смысла с помощью эрзаца нежности.
Герои Витткоп редко взаимодействуют друг с другом как в классическом (даже классическом постмодернистском) романе: они всегда одиноки и переживают жизнь, одиночество и смерть только через свое тело.
Любовь и смерть героев Витткоп
Эрос в принятой трактовке психоанализа представляет собой влечение к жизни, которое включает в себя сексуальное влечение и стремление к самосохранению. Эрос всегда стремится к самоудовлетворению, сублимирует энергию и активизирует инстинкт в человеке.
Энергия мортидо — стремление к смерти и возвращение человека к своему неорганическому состоянию. Главное отличие философии Витткоп от идей психоанализа — отсутствие деструкции героев. У персонажей есть влечение к жизни, к осуществлению желания жизни и свободы. И очень редко, когда герои по-настоящему сомневаются в своих поступках.
Главные герои повестей «Некрофил» и «Страстный пуританин» в своей страсти оказываются напрямую связаны со смертью. Некрофил Люсьен отвергает смерть и познает любовь с «возлюбленными» разных полов, возрастов, профессий. Более того, Витткоп переворачивает концепцию о представлении «идеальной личности» в духе барокко и постмодернизма: Люсьен силен и мужественен, образован, с одним но. Его мускулатура — результат постоянного выкапывания мертвых и их перемещения между кладбищем и квартирой, квартирой и мостом. Оставленные дневниковые записи — рассуждение о некрофильский любви разрывают представление об эпистолярии как форме покаяния и признания своих темных сторон.
Энергия мортидо — стремление к смерти и возвращение человека к своему неорганическому состоянию. Главное отличие философии Витткоп от идей психоанализа — отсутствие деструкции героев. У персонажей есть влечение к жизни, к осуществлению желания жизни и свободы. И очень редко, когда герои по-настоящему сомневаются в своих поступках.
Главные герои повестей «Некрофил» и «Страстный пуританин» в своей страсти оказываются напрямую связаны со смертью. Некрофил Люсьен отвергает смерть и познает любовь с «возлюбленными» разных полов, возрастов, профессий. Более того, Витткоп переворачивает концепцию о представлении «идеальной личности» в духе барокко и постмодернизма: Люсьен силен и мужественен, образован, с одним но. Его мускулатура — результат постоянного выкапывания мертвых и их перемещения между кладбищем и квартирой, квартирой и мостом. Оставленные дневниковые записи — рассуждение о некрофильский любви разрывают представление об эпистолярии как форме покаяния и признания своих темных сторон.
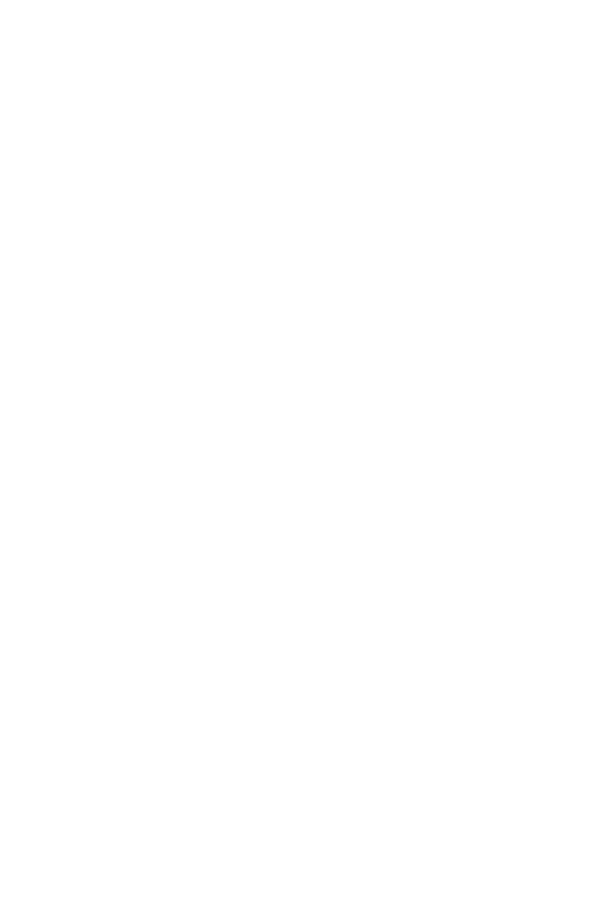
Повесть «Страстный пуританин» становится перевертышем христианской морали и стремления к идеалу. Пуританин Дени не ищет любовь в Боге, с детства его больше привлекала статуя богини Дианы (то есть языческой природы) и осквернение веры двоюродной сестрой Бланш (то есть «белой» девочкой). Но желание, сопряженное с образом могущественного тигра, охватывает Дени. Он стремится к утолению эротической энергии познания природы, которая выше его. И тут Витткоп обманывает ожидания читателя — пуританин почти добирается до тигра, но умирает по дороге. Писательница была атеисткой, и религия в её текстах всегда связана с низменной комедией (например, эпизод с изнасилованием пьяной монахини из «Каждый день — падающее дерево»).
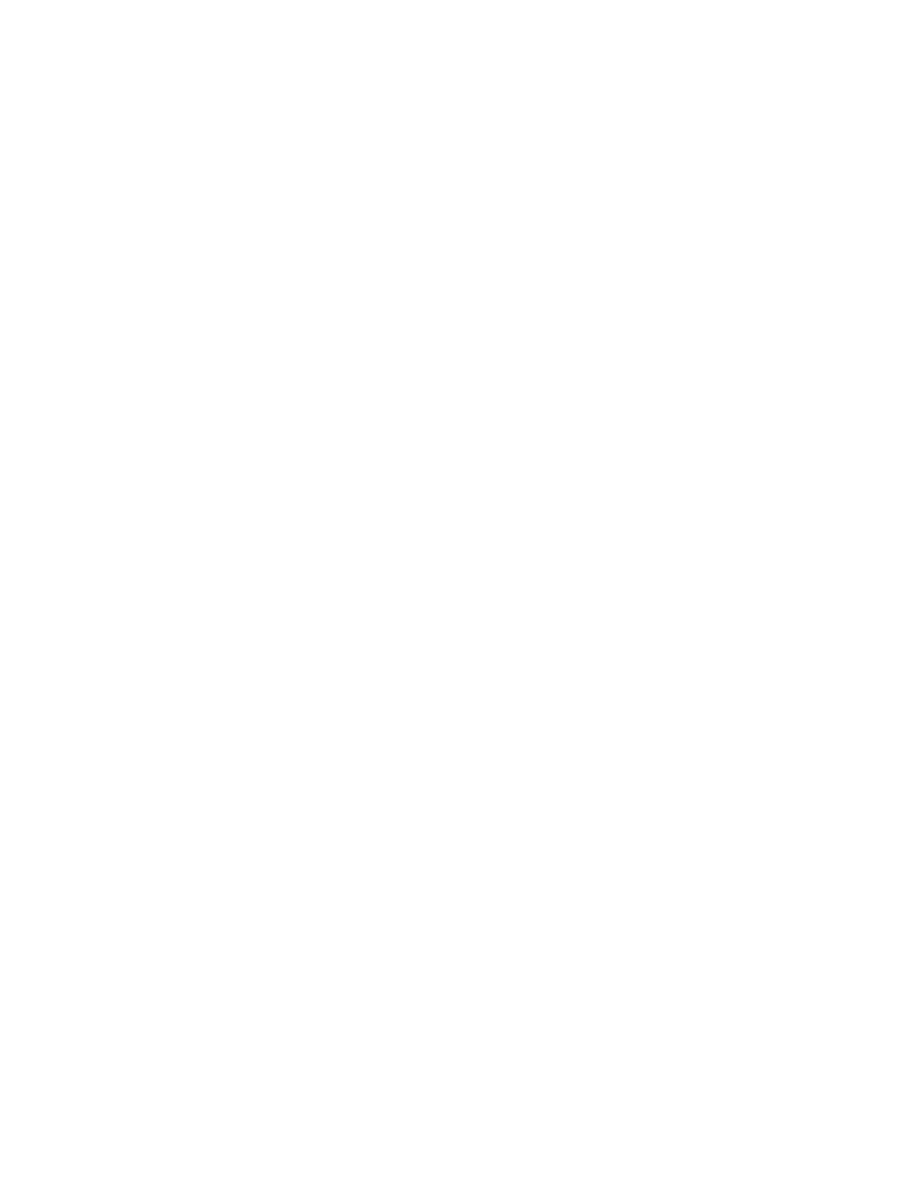
Сара Дойдж «Беатриче Ченчи» (ок. 1890)
В романе «Хэмлок, или яды» все действия отравительниц внешне мотивируются любовью. Как только героини выбирают любовь — они выбирают смерть. Используя образы известных женщин (Беатриче Чечни, Мари-Мадлен д’Обрэ), Витткоп не ставит целью завлечь читателя и заинтриговать дочитать до финала. Мы наблюдаем, как желание вызывает страдание, как они становятся стимулами друг для друга. Закономерно читатель ждет лишь один финал и задается вопросом: как именно наступит смерть?
Параллельно основным сюжетам идет автобиографическое повествование об умирающей Хемлок, которая отдает свое тело, свою силу болезни и теряет желание жить.
Сборник «Образцовая смерть», в котором одновременно соединяется игра с известными сюжетами (рассказы об Эдгаре По и Идалии Дабб) и выдуманными историями вариаций смертей в Америке и Азии. Заканчивается сборник рассказом «Клод и Ипполит, или Непозволительная история бирюзового огня». Близнецы-гермафродиты, которых на греческий манер Витткоп зовет адельфами, познают любовь и смерть друг с другом. В детстве они увидели похороны и попытались понять смерть, но закономерно отказались верить в нее. После смерти матери братья тяготятся правилами траура — их стремление к жизни, театру и радости сильнее. Однако и адельфов настигает смерть, пронзая жабо, и оставляя умирать в канаве. Величие смерти при этом равно мигу краткого существования, наполненного любовью:
Параллельно основным сюжетам идет автобиографическое повествование об умирающей Хемлок, которая отдает свое тело, свою силу болезни и теряет желание жить.
Сборник «Образцовая смерть», в котором одновременно соединяется игра с известными сюжетами (рассказы об Эдгаре По и Идалии Дабб) и выдуманными историями вариаций смертей в Америке и Азии. Заканчивается сборник рассказом «Клод и Ипполит, или Непозволительная история бирюзового огня». Близнецы-гермафродиты, которых на греческий манер Витткоп зовет адельфами, познают любовь и смерть друг с другом. В детстве они увидели похороны и попытались понять смерть, но закономерно отказались верить в нее. После смерти матери братья тяготятся правилами траура — их стремление к жизни, театру и радости сильнее. Однако и адельфов настигает смерть, пронзая жабо, и оставляя умирать в канаве. Величие смерти при этом равно мигу краткого существования, наполненного любовью:
“
Но взамен то, что зовется Смертью, оставило им хрупкий и смехотворный венец краткой человечности. Их руки все еще слабо искали друг друга, такие же ледяные, как кровь, что уже запеклась корочкой на кружевах. Их затопила волна боли, и они претерпели смерть, каковую претерпевают люди и звери.
Текст «Смерть С.» Соткан из различных вариантов смерти героя, подчеркивающих иллюзорность смерти и жизни соответственно.
В большинстве работ Витткоп представляет смерть в агонии на фоне контрастных декораций: тюрьмы и улицы, дворов кабаков или роскоши дворцов и одежд. Никто не может спрятаться от Смерти в мире Витткоп, и писательница поворачивает нож в печени героев, показывая: пусть жизнь полна боли, но разве смерть не хуже? Выразительная смерть всегда исходит из страдания Эроса.
Главным резонером философии Витткоп становится Ипполита из повести «Каждый день — падающее дерево». Ипполита «держится в стороне от скучных вещей», она чувствует себя инородной в мире, путешествует и стремится к Эросу через впечатления, потому что отчаянно боится не жить:
В большинстве работ Витткоп представляет смерть в агонии на фоне контрастных декораций: тюрьмы и улицы, дворов кабаков или роскоши дворцов и одежд. Никто не может спрятаться от Смерти в мире Витткоп, и писательница поворачивает нож в печени героев, показывая: пусть жизнь полна боли, но разве смерть не хуже? Выразительная смерть всегда исходит из страдания Эроса.
Главным резонером философии Витткоп становится Ипполита из повести «Каждый день — падающее дерево». Ипполита «держится в стороне от скучных вещей», она чувствует себя инородной в мире, путешествует и стремится к Эросу через впечатления, потому что отчаянно боится не жить:
“
Ах, не смерти я боюсь. Мое сердце сжимает грусть оттого, что когда-нибудь я перестану существовать, мысль о том, что я исчезну, тогда как по-прежнему будут сменяться времена года и века, цвести деревья и падать снег. Эта боль от потери сознания и личности порой так остра, что способна внушить мне желание мгновенно умереть, дабы поскорее от нее избавиться. Но нет. Простофиля не прыгнет в реку, спасаясь от дождя. Я не собираюсь отказываться от заключенного мной пари дожить до глубокой старости.
Всех героев, которых мы видим и чаще всего номинуем «странными», «маргинальным», «извращенцами» в миропонимании Витткоп заслуживают сострадания, потому что все равно стремятся жить.
Постмодернистское барокко. Абсурд и игра
Если попробовать вписать Витткоп в систему литературных координат — что совершенно бы ей не понравилось при жизни — то лучше использовать синкретическую структуру постмодернисткого мировоззрения и барочного текста. Или же поставить ее в место на полотне, в котором одновременно происходит разрыв всех условностей. Но это лишь внешняя оболочка. Внутренние нити литературного процесса прошлого оказываются прочнее. На этом разрыве стоит Витткоп.
Сопоставление культуры постмодернизма и барокко исследователи всегда начинают с исторической схожести двух переломных эпох. В случае Витткопп исторический контекст текстов определяется либо периодами с XVII—XVIII веков («Убийство по-венециански», «Торговка детьми», «Хемлок, или Яды», «Клод и Ипполит»), либо современным писательнице XX веком. Оба этих хронотопа при этом крайне пессимистичны.
Сопоставление культуры постмодернизма и барокко исследователи всегда начинают с исторической схожести двух переломных эпох. В случае Витткопп исторический контекст текстов определяется либо периодами с XVII—XVIII веков («Убийство по-венециански», «Торговка детьми», «Хемлок, или Яды», «Клод и Ипполит»), либо современным писательнице XX веком. Оба этих хронотопа при этом крайне пессимистичны.
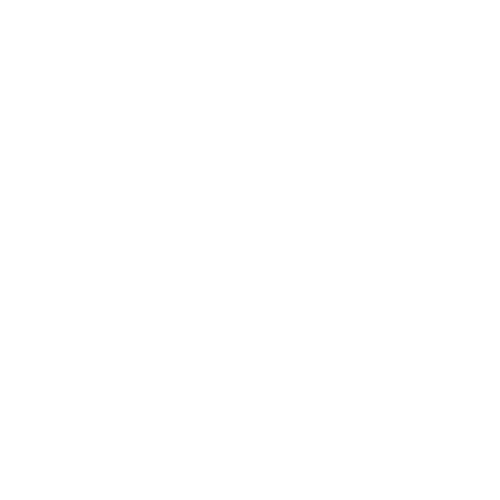
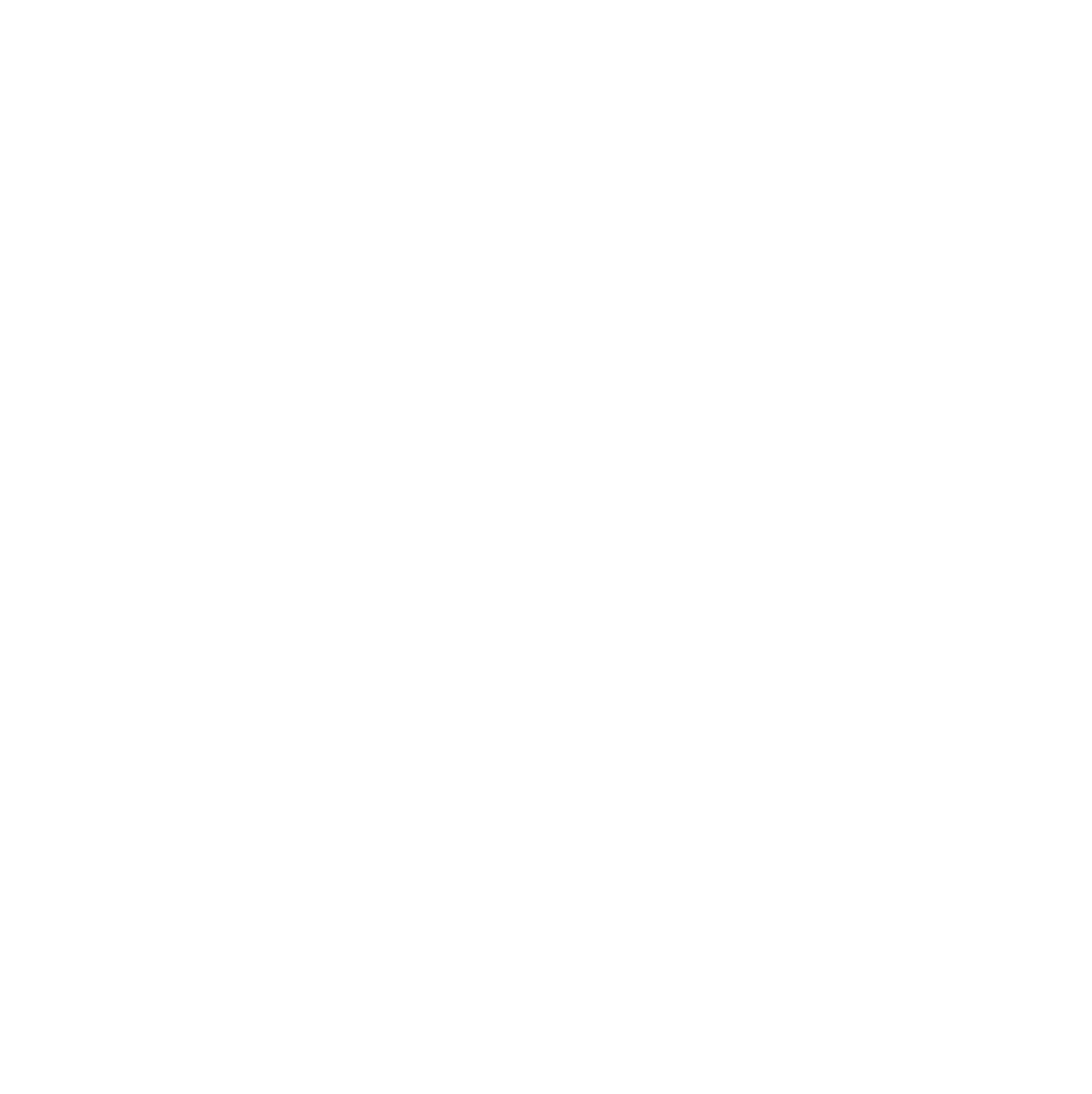
Во-вторых, постмодернизм переносит на свое поле барочный абсурд и игру. Переворачивание привычных ролей, комизм и ирония становятся главным способом высказывания. Тезауро писал: «Как может быть острословие серьезным и серьезность насмешливой? Как может быть веселость грустной и грусть веселой? На это я отвечу, что не существует явления ни столь серьезного, ни столь печального, ни столь возвышенного, чтобы оно не могло превратиться в шутку».
Ирония в постмодернистском дискурсе используется для деконструкции мира и истины, при этом сама ирония оказывается реконструирована. Приемы комизма созвучны мыслям упомянутого ранее Батая: рождение смеха вокруг ядра почти животного ужаса. Эффект комизма Витткоп использует для изображения трагедии бытия своих персонажей. Предметом иронии становятся табуированные темы и явления, которые обнажают отсутствие смысла в человеческих концепциях счастья и истины. Чаще всего Витткоп изображает комизм и абсурд религии, чтобы по-барочному отзеркалить бессмысленность трансцендентных поисков. И здесь снова оказывается близкой мыслям Батая:
Ирония в постмодернистском дискурсе используется для деконструкции мира и истины, при этом сама ирония оказывается реконструирована. Приемы комизма созвучны мыслям упомянутого ранее Батая: рождение смеха вокруг ядра почти животного ужаса. Эффект комизма Витткоп использует для изображения трагедии бытия своих персонажей. Предметом иронии становятся табуированные темы и явления, которые обнажают отсутствие смысла в человеческих концепциях счастья и истины. Чаще всего Витткоп изображает комизм и абсурд религии, чтобы по-барочному отзеркалить бессмысленность трансцендентных поисков. И здесь снова оказывается близкой мыслям Батая:
“
В насилии этого преодоления, в смешении смеха и рыданий, в избытке восторга, сокрушающего меня, я постигаю сходство ужаса и сладострастия, переполняющего меня, сходство последнего страдания и нестерпимой радости!
Писательское мастерство пародии Витткоп отражено в сборнике «Мастерская подделок», построенного на зеркальной пародии, карикатуре, но с целью не высмеивания, а подражания. Сборник начинается с каноничного для эпохи Просвещения «Кандида» Вольтера, продолжается Петронием, басней в духе Лафонтена, де Садом, пародией в стиле Амброза Пирса и других значимых авторов литературной нормы и отступников от нее. В предисловии Витткоп говорит о подражании и стилистической воспроизводимости (всех авторов она называет «отцами»). Стилистический плюрализм сборника дополнен и отрывком «подделки» собственного «Некрофила». Заметка из дневника Люсьена в сборнике — симулякр в духе Бодрийяра. В оригинальном «Некрофиле» читателю представлялись лишь дневниковые отрывки, которые сами стали симуляцией жизни (а в данном случае постоянной встречей со смертью).
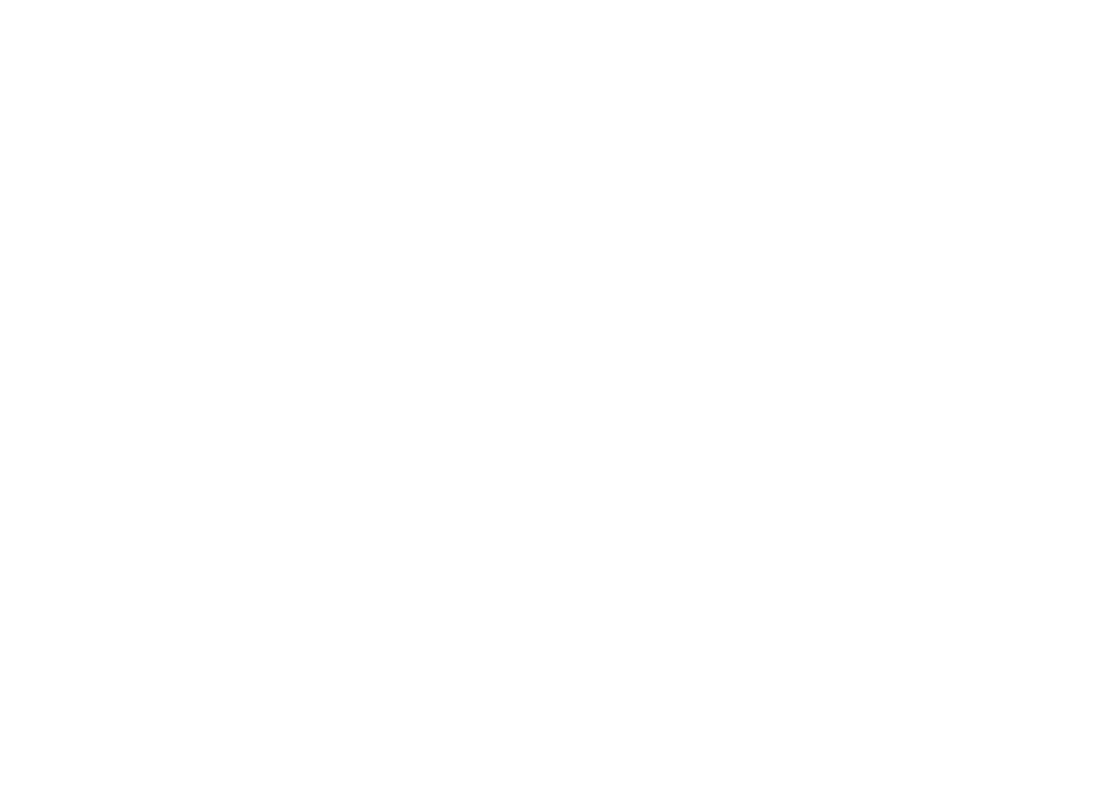
Отдельно стоящая сказка «Пиксковские гномы» — стилистически построена как назидательная сказка в стиле Средневековья. Однако фея здесь предоставляет три желания маркизе за убийство матери. Маркиза загадывает абсурдные желания, связанные с низовой культурой: разрушение церкви, увеличение чужого естества, необычная форма собственных экскрементов ради шутки. Но как и положено в финале сказки Витткоп выносит мораль:
“
Обидно, что, формулируя собственные желания <…> вы не высказали такого же ума, как и при убийстве своей матери <…> Жаль, конечно, но это доказывает, что во всем следует задумываться о конечной цели.
Постмодернистское барокко. Жизнь есть?
Постмодернизм актуализировал главные принципы барокко: «жизнь есть сон», «театр жизни», блуждание в лабиринте, иллюзорность. Как уже было отмечено выше, практически все тексты Витткоп так или иначе связаны с представлениями о любви, жизни, смерти и героями, которые блуждают в мире этих номинаций. Сложно сказать, что образно-тематический ряд отличается от истории мировой литературы. Однако эпатаж и особенность миропонимания Витткоп связаны с акцентом на неочевидных деталях.
Сон и театр, как в системе барокко, так и в поэтике постмодернизма «запечатлевают способ истолкования знания и символического воспроизведения его своим бытием» (Е. Г. Милюгина «Метатекст барокко как лабиринт»). В картине мира Витткоп — театр тоже форма реальности, где в центре оказывается страдание. В «Смерти С.» разыгрывается несколько вариантов убийства, главными героями которого становятся культурные элиты в противовес беднякам. А вот умирающий герой всегда страдает в одиночестве.
Директивно представляющий условность рассказ «Сон разума», где после долгого перечисления карликов, уродцев, описания женщины-паука демонстрируется театр безумия природы и человека:
Сон и театр, как в системе барокко, так и в поэтике постмодернизма «запечатлевают способ истолкования знания и символического воспроизведения его своим бытием» (Е. Г. Милюгина «Метатекст барокко как лабиринт»). В картине мира Витткоп — театр тоже форма реальности, где в центре оказывается страдание. В «Смерти С.» разыгрывается несколько вариантов убийства, главными героями которого становятся культурные элиты в противовес беднякам. А вот умирающий герой всегда страдает в одиночестве.
Директивно представляющий условность рассказ «Сон разума», где после долгого перечисления карликов, уродцев, описания женщины-паука демонстрируется театр безумия природы и человека:
“
Таковы они были, в этой зале с зарешеченными окнами, в тусклом свете зимы, порожденные сном разума. Ибо, если даже предположить, что природа изготавливала их методически, сам этот метод был маниакальным бредом, черным безумием.
В новом барокко Витткоп природа, порождая человека, безумна. Тогда каким остается быть самому человеку?
В своеобразной пародии на детектив XVIII века «Убийство по-венециански» весь текст — ремарка театра жизни, абсурдного действия убийства трех жен. В тексте есть упоминания зрителей, наблюдателей, главных и второстепенных героев.
Но самое каноничное для литературы XVII-XVIII вв. — люди-марионетки. В «Торговке детьми» подробные описания издевательств над детьми всегда сопровождаются пояснениями спектакля и представления для платящего (а один посетитель всегда приходит в костюме: «Этот человек большой оригинал, его любимое развлечение — маскарад, ему нравится пугать детей, переодевшись крысой»). Особенность изображения мира Витткоп: публичный дом с детьми находится напротив театра. Пока в одном месте разыгрывается страсть и стремление к жизни, в другом это происходит.
В своеобразной пародии на детектив XVIII века «Убийство по-венециански» весь текст — ремарка театра жизни, абсурдного действия убийства трех жен. В тексте есть упоминания зрителей, наблюдателей, главных и второстепенных героев.
Но самое каноничное для литературы XVII-XVIII вв. — люди-марионетки. В «Торговке детьми» подробные описания издевательств над детьми всегда сопровождаются пояснениями спектакля и представления для платящего (а один посетитель всегда приходит в костюме: «Этот человек большой оригинал, его любимое развлечение — маскарад, ему нравится пугать детей, переодевшись крысой»). Особенность изображения мира Витткоп: публичный дом с детьми находится напротив театра. Пока в одном месте разыгрывается страсть и стремление к жизни, в другом это происходит.
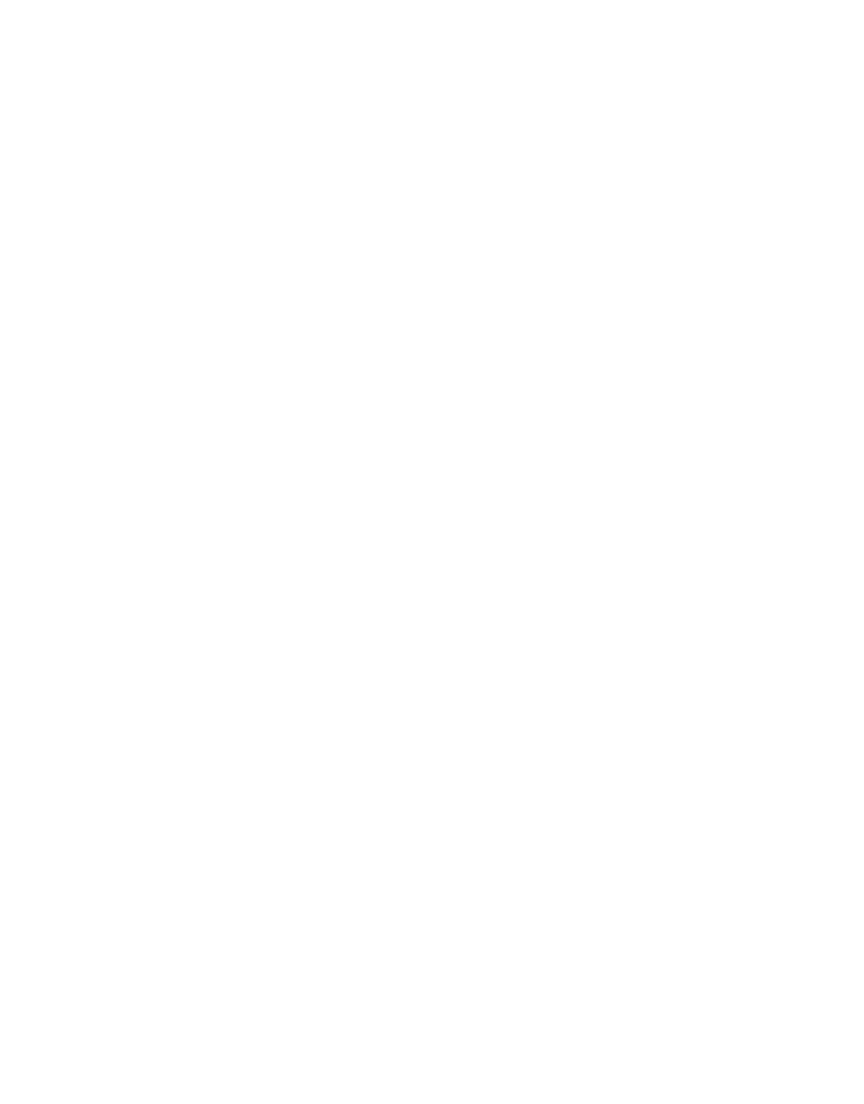
Важное место у Витткоп занимает и метафорический лабиринт, по которому блуждают герои. В реальном мире для них все понятно. Сложнее оказывается внутренняя жизнь в столкновении с иллюзиями.
Витткоп говорила:
Витткоп говорила:
“
В лабиринте невозможно потеряться. По его спирали всегда выходишь к центру. И центр — это конец пути. Это может быть смерть.
О том, что герои Витткоп даже не являются самостоятельными героями в лабиринте зеркал говорит герой «Страстного пуританина», который придумал себе героя со схожими страстями:
“
...я очень хорошо знаю, что, если бы Матье — который сделать этого не может — писал бы, в свою очередь, роман или дневник о человеке, сочиняющем историю другого персонажа, который был бы создателем следующего по счету героя, никакая логика не помешала бы этой цепочке удлиняться вечно, и образ зеркал мог бы тогда множиться до бесконечности
Разрыв и объединение
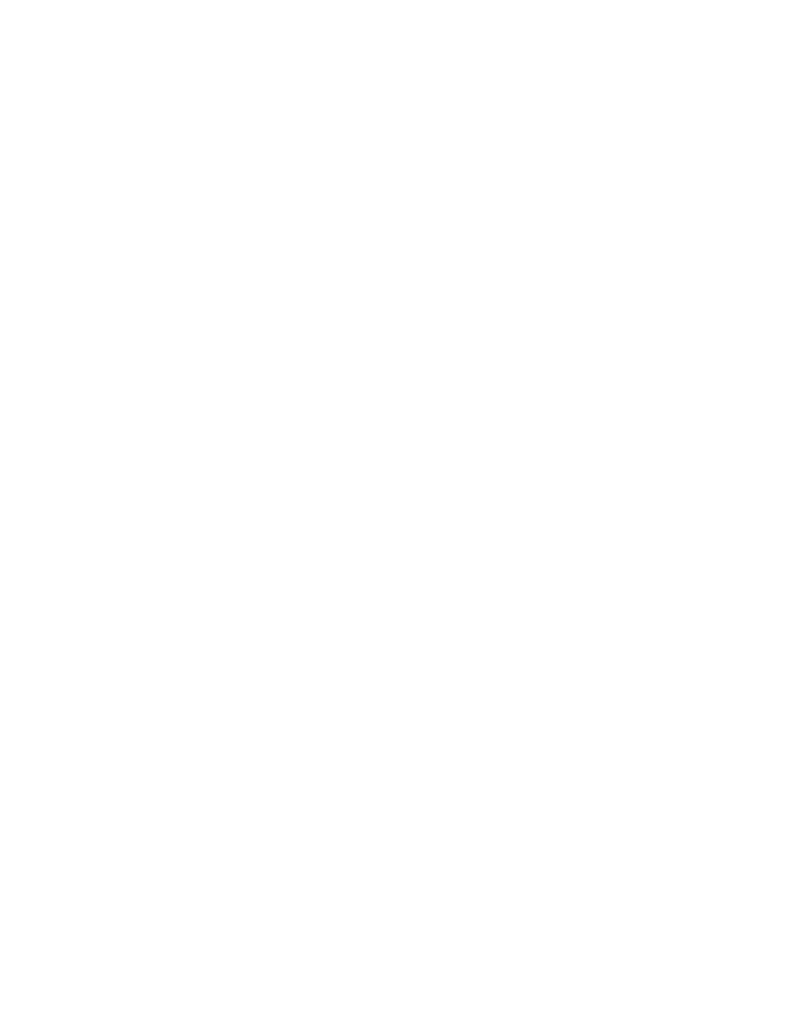
С.Д. Артамонов дает барокко определение, которое могла бы выбрать сама Габриэль Витткоп: «Барокко - болезненное дитя, рожденное от урода отца и красавицы матери». Но от представителя барокко Витткоп отличает отсутствие привычных антиномий добра и зла, представлений о герое и авторе. При этом и кризисное состояние мира, которое отображают авторы постмодернизма, Витткоп тоже отвергает. Кризис — это временное явление. В мире Витткоп есть состояние гармонии, но оно не связано с человеком. Даже смерть не эквивалентна свободе.
Мир природы сопряжен с понятиями силы и идеала. Страстный пуританин познает идеал и любовь, наблюдая за тигром:
Мир природы сопряжен с понятиями силы и идеала. Страстный пуританин познает идеал и любовь, наблюдая за тигром:
“
Совершенство возможно в этом мире, — говорю я себе, созерцая этот лик, ритм поступи, тело с тяжелыми и удлиненными формами, — и природа не создала ничего более величественного.
И это же тот мир, который боятся потерять автобиографические героини — наблюдательница Хемлок и Ипполита, постоянно наблюдая за смертью и разложением материи человека.
И все-таки Витткоп — писательница ХХ века, которая выбирает новые формы в своих текстах, строит лабиринты, объединяет нескольких рассказчиков и мешает жанры и литературные направления. Попытка точно определить, к какому литературному направлению ее отнести в итоге в моем сознании разбивается о ее же слова:
И все-таки Витткоп — писательница ХХ века, которая выбирает новые формы в своих текстах, строит лабиринты, объединяет нескольких рассказчиков и мешает жанры и литературные направления. Попытка точно определить, к какому литературному направлению ее отнести в итоге в моем сознании разбивается о ее же слова:
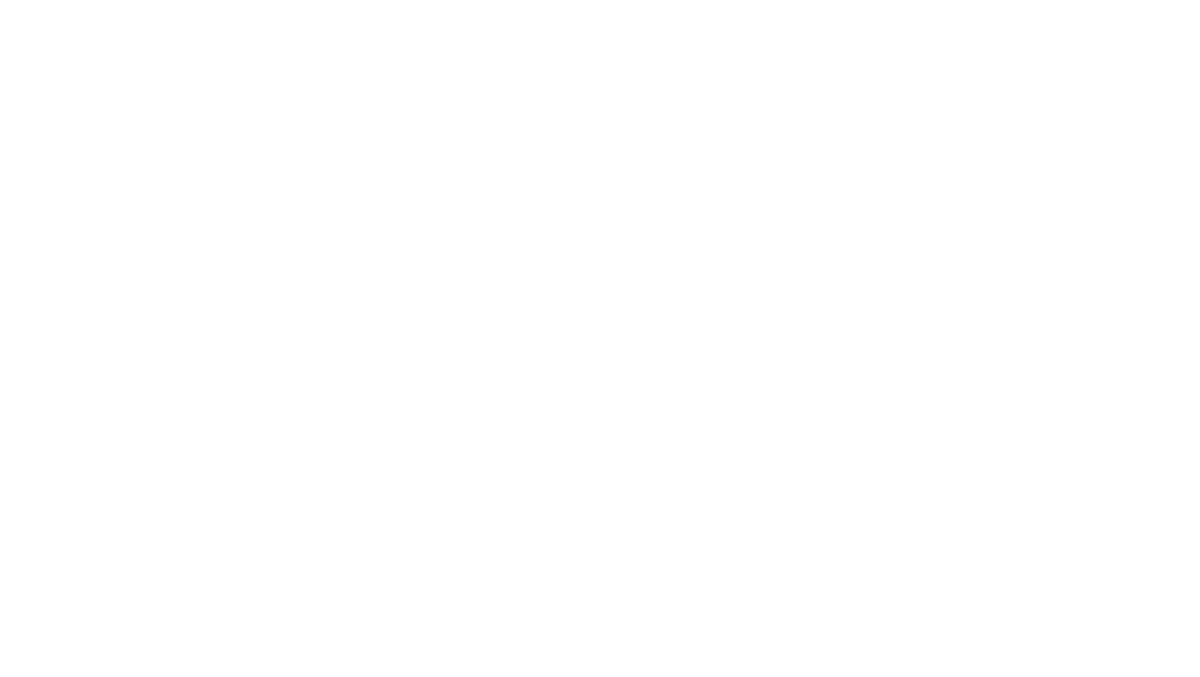
“
Быть собой и от этого не страдать
Такова Витткоп и ее творчество.
